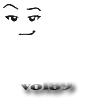Дневник блокадника LiveJournal Записки о блокаде Сделанные моей бабушкой Еленой Петровной Грузиненко (1906-1949). Она умерла за девять лет до моего появления на свет, чему причиной явилось подорванное в блокаду здоровье. Она, как рассказывала мама, и до войны была сердечницей. Заметки эти нигде не публиковались. ГОЛОД Заметки о ленинградской блокадной зиме 1941-42 гг. По тёмным улицам пустого Ленинграда Я медленно бреду, неся как ношу, Сознанье тяжкое...И нет преграды, И что не брошено, в пути я брошу... Да где там...Все пути уже заказаны. Да что там? Кровь в висок? Снаряд по улице? Не всё ль равно. -Когда все мысли связаны, Закоченелая душа сутулится. Не падай! -Встать со снегу но сумеешь. Не засыпай! -Чтоб сердце но уснуло. Ты чувствуешь ли холодок на шее? То смерти лезвие тебя коснулось. Январь, 1942 г. Предлагаемые записки были сделаны в конце 43-го начале 44-го гг., когда самый ужас первой блокадной зимы уже миновал, но боль от потери близких (мамы, тети Веры и тети Мани, которые умерли от голода) и бремя пережитого не давали покоя измученной душе и требовали выхода на бумагу. Январь1942 г. В сущности, я уже же работала. Но на круглосуточные дежурства санитаркой по приемному покою я всё-таки ходила. Не столько из энтузиазма, сколько ради того обеда, который давали круглосуточным дежурным.Иногда удавалось схватить больше, чем это было положено. С каждым разом это делалось всё трудней, но мы все так дорожили этой возможностью поесть раз в декаду. Работы почти не было. Ещё шла вода, хотя и не каждый день; ещё был свет; еще работало, хотя и с перебоями, центральное отопление. Потом это все кончилось одно за другим: вода, свет, тепло, - и была в этом стремительность падения в пропасть. Транспорт едва работал. За сутки к нам приходили одна - две машины, не больше. Той ночью, о которой я хочу рассказать, привезли раненых с аэродрома. Молоденький лейтенант, почти мальчик, раненый в щиколотку, прыгал, опираясь о плечи санитаров. Он кривился от боли и смеялся, и без умолку говорил - рассказывал, как его ранило. А припевом к его речи было: "Только бы не хромать!" Он беспрестанно возвращался к этому и всё просил врачей: "Делайте, что хотите, пусть как угодно больно, только бы не хромать, только бы нога уцелела". Мы подняли его на второй этаж в операционную, и тут, когда его положили на стол, врач увидел, что спасти ногу невозможно, что она уже ампутирована снарядом и держится на клочке кожи. Сказали об этом мальчику и сразу же приступили к операции. Делали под местной анестезией, вкалывали в ногу громадные шприцы с анестезирующими растворами, дезинфицировали и калили на огне какие-то инструменты… Он стонал. Сначала я держала эту мертвую ногу. Пятка была шершавой и тяжелой, и врач кричал на меня, что я не так держу. Потом к ноге приставили кого-то из девушек-студенток, а мне велели заслонить раненого, чтобы он не мог видеть операцию. Я обняла этого бедного плачущего мальчика, гладила его по лицу и целовала, и говорила ему, что он совсем не будет хромать на протезе, даже палкой не будет пользоваться.А он плакал горькими слезами, что не хочет, не хочет, не хочет жить калекой, и у меня сердце надрывалось от жалости. А ноздри мне щекотал запах теплой крови и горелого мяса, и, мельком оглядываясь назад, я ловила себя на мысли, что вот свежее мясо, всё равно отрезано, всё равно пропадает, и ничто во мне не содрогалось и не отвращалось от этой мысли, и самая мысль эта не противоречила надрывной моей жалости, а словно еще усиливала её. Только когда я услышала, как одна из девушек шепнула другой: "Посмотри, мясо, настоящее мясо!", и когда я увидела блеск их глаз, только тогда я испугалась себя и овладела собой. А потом раненого увезли в палату, а мы пошли спать на кушетки приемного покоя, потому что санитары сантранспорта сказали, что нынче больше не приедут. Это было в январе, нет в феврале 1942 г. Маня умерла. Старый Яков умер. Мама еще шевелилась. Вера, полуобезумевшая от голода, была у нас. И все мы жили в комнате у Таськи. А я спала с Таськой в одной постели. (Таськина мать и брат умерли из первых). И тут мы окончательно обовшивели. По Таськиным платьям и пальто, которыми мы укрывались, вши, огромные, белые ходили табунами.Иваниха приходила к нашей буржуйке. Страшная, с торчащим животом, похожая на паука. Она садилась, сгорбившись, у дымящего очага и при колеблющемся, коптящем огоньке лампадки, матерно ругаясь, била вшей. Где была Любиня? Любиню уже сдали в круглосуточный детский сад. Да, так это было в конце февраля. У меня уже начиналось воспаление легких, я отекала до пояса и если не слишком пугалась этого, то потому, что не понимала, и ещё потому, что не могла ни на что реагировать по-настоящему. Квартира Башковых стояла незапертая. То есть дверь была захлопнута, но английский замок открывался любым ключом и любой отмычкой. Там никто не жил с тех пор, как Вера пришла к нам. Лейтенант приходил не чаще раза в неделю. Его комната была заперта. И там, за этой запертой дверью, был табак, много табаку и бутыль рыбьего жира и ещё какая-то снедь - это я знала твердо. Я сказала об этом Иванихе и Таське, и мы решили пойти вечером попытать счастье. Мы взяли все ключи, какие нашлись у нас, и большой нож, и топор. И коптилку Иваниха пожертвовала. Как мы бились над этой дверью! Таська руководила операцией. У нее, безусловно, был опыт по части краж со взломом, да и на заводе у себя она работала по слесарной части. Иваниха тоже не казалась новичком. Это видно было по всем приемам. И как они ругались! В Бога, в душу, в замок, в лейтенанта. А потом Таська стала ругать нас, и я никогда не слышала такой виртуозной и злобно-грязной ругани. Она ругала нас, потому что дверь не поддавалась, потому что мы слабо помогали, потому что было темно, и холодно, и страшно, и хотелось курить и есть. Даже Иваниха, точно сознавая свою вину, почти не отругивалась. Мы, правда, мало что могли сделать. Мы боялись шуметь в этой пустой квартире, и мы были очень слабы. Нас одолевал голодный понос, и поочередно мы бегали в то замершее, запакощенное помещение, что когда-то называлось уборной. Впрочем, Таська и этим себя не затрудняла и садилась, почти где стояла, только отодвинувшись немного в сторону, и мы ничего не могли ей сказать. Лейтенант хорошо запер свою дверь, мы так и не смогли вскрыть её... Таська в коридоре ухватила какие-то старомодные дамские ботинки, и еще какое-то тряпьё подобрала Иваниха, и ещё наволочку с непряденой верблюжьей шерстью. Вещи Таська на другой день продала не рынке. А шерсть дали мне. Она и сейчас у меня. 42-й год, февраль - март - апрель.Мужская шуба. Мужская каракулевая шапка (наследство старого Якова, впоследствии «съеденное». Шапку выменяли на еду). Валенки с дворницкими галошами. Как безумно тяжело было всё это таскать! Голова, остриженная по-мужски. Хриплый голос. Папироса. Лицо без признаков пола. Лицо? - Череп, обтянутый кожей, дряблой, грязно-серой, с темными пигментными пятнами. Это не отмывалось. Только когда лицо это отекало, распухало, менялся и цвет его. Оно становилось желто-белым, какой-то мертвенной белизной, огромным и более страшным, чем то, костлявое и темное. И это было лицо города. И оно смотрело со всех встречных лиц. И оно смотрело на меня из зеркала глазами мутными и стеклянными в мои мутные и стеклянные глаза. И дрожащие в коленях, тяжелые, слабые, глиняные ноги - это были мои ноги. И на таких ногах шатался умирающий город. К шести часам мы собирались в очередь перед булочной. "Эй, дядя!" - говорили мне, и я откликалась, не поправляя, так же, как откликался на "тётку", закутанный в платки и шали, маленький, небритый старик. Это было бесполое племя полумертвых животных. Днём всё “это” брало досуха вылизанные банки и бутылки и тащилось в столовую. Кто куда мог. Простоявший двухчасовую очередь получал право налить в широкогорлую молокосоюзовскую бутылку тепловатой, мутной, дурно пахнущей воды, именуемой супом, и переложить в банку то, что с бóльшим правом могло называться супом, но именовалось кашей. Потом можно было вылизать сухим жадным языком тарелку, в которой это было подано, и завистливо взглянуть, как вокруг лижут тарелки другие, такие же одичавшие полубезумные люди, и плестись домой. Моя столовая была на территории больницы Эрисмана. Огромная, на квартал раскинувшаяся территория, была попросту чудовищным моргом. Трупы и куски трупов валялись повсюду. Мы шли мимо, видя и не глядя, как минуют привычное, не задевающее. Я помню только худые детские ножки в коричневых чулочках. Они валялись на дороге, обрубленные чуть ниже бёдер, в длинных коричневых чулочках, заштопанных на пятках. И скорченные голые трупики грудничков, брошенные у запертых дверей консультации. И ещё два трупа. Полуголые, они лежали обнявшись, и у одного была занесена рука в разгульном замахе, а другой задрал ногу, и так они закоченели в дикой пляске, оскалив мертвые рты, широко распахнув тусклые глаза, пустые и страшные, как мир в них глядящий. 42-й год, апрель-май.Какими грустными были наши дети. Маленькие старички, неподвижные, равнодушные, с тонкими ножками, с бледными личиками и грустными глазами. Их весной выводили на солнышко, они сидели на скамейках, ограде палисадника и жевали почки и листики смородинных и барбарисовых кустов. Они даже не играли, эти бедные котята. Они тянули время от еды до еды, и ели они бесконечно медленно. Они все ели медленно, но хуже всех был Миша из средней группы. Одну ложку каши он ухитрялся есть чуть ли не целый час, а когда воспитатели сердились на него, он горько плакал: «Я не могу быстро! Я не стану быстро! У меня тогда мало каши будет!» Клава С., наша соседка, работала буфетчицей Спецторга. Она обслуживала старший комсостав Угро НКВД. Две ее дочери были в эвакуации, а муж – на фронте. Клава таскала продукты из своей столовой в количествах почти неограниченных.Она купила квартиру в нашем доме и наняла домработницу и, кроме того, приобретала вещи. Она оделась сама и одела своих. Она обставила квартиру, купила ковры, и пианино, и столовое серебро, и хрусталь, и золотые вещи, и часы, и драгоценности. Всё, что было у нас сколько-нибудь годное – все перешло Клаве. Кроме того мы работали на нее: вязали, вышивали, шили. Однажды, отдавая Клаве розовую чайную скатерть, (“Трофейную”, кстати сказать), Ирина вздохнула: “Жалко!”. И великолепно ответила Клавочка: -Бросьте, Ирина Николаевна, не жалейте: вы с Еленой Петровной люди образованные, вы себе наживете. А когда это для меня настанет такое время, что я смогу за банку каши вещь приобресть. Лето 42-го года. Дворники и домохозяйки убирают дворы.“Ну, бабоньки, поднажмем! Много ли тут осталось! А то Гитлер сверху смотрит – так некрасиво”. Донорский отдел Института Переливания Крови.Регистраторша опрашивает приходящих доноров – видимо, материал для какой-то научной работы. Строгим голосом она задает всем одни и те же вопросы и, не поднимая головы, регистрирует ответы. У стола благополучного вида дамочка отвечает робко и торопливо. - Голодали? - Нет. -Переживания были? -Нет. -Крóви есть? -Нет. Возмущенная регистраторша поднимает голову: -То есть как это так? Если вы не голодали и переживаний не было, почему это у вас кровей нет? Кандидатка в доноры молчит с виноватым видом. 1 Комментарий: Дело в том, что в доноры брали только относительно здоровых людей. Между тем, известно, что в голод у большинства женщин месячных не было. На этом воспоминания заканчиваются. ЭПИЛОГ Любовь Канская (1935 г.), дочь Елены Грузиненко Осень 42-го года. Елена Петровна работала ревизором в Выборгском Райздраве. Однажды днем, когда она была на объекте, к ней в Райздрав пришел посетитель и, не застав ее, оставил такую записку: C завода “Красная заря” Бухгалтер был у вас сегодня зря! Ушел, боясь свой пропустить обед, А завтра вновь придет, чтоб получить от вас совет. А нас детсадовских водили в душ на кондитерскую фабрику им. Микояна. И там, в раздевалке стоял большой таз, полный ирисок. Бери, сколько хочешь! Значит, самая страшная голодная пора была уже позади!