Обсуждение социал-дарвинизма
Как Вы относитесь к социал-дарвинизму?
16 проголосовавших
-
1. Как Вы относитесь к социал-дарвинизму?
-
Это лженаучная теория8
-
Эта теория имеет под собой реальную основу8
-
- Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для возможности голосования в этом опросе.
-
-
Последние посетители 0 пользователей онлайн
- Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
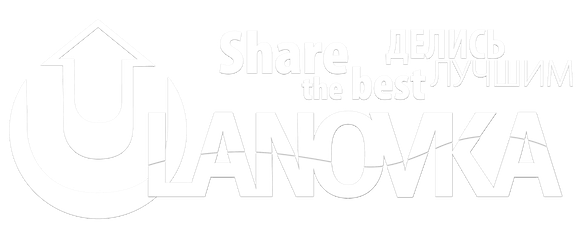

Рекомендуемые сообщения
Присоединяйтесь к обсуждению
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.